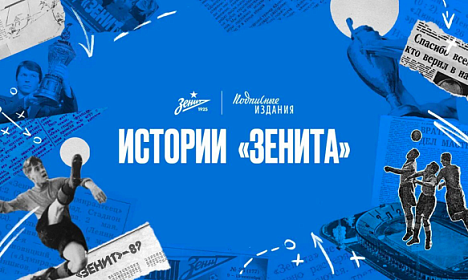Термин аутофикшн (он же автофикшн) появился еще в 1970-е годы — так обозначил жанр своего романа филолог Серж Дубровски.
«Аутофикшн есть вымысел абсолютно реальных событий и фактов».
Пройдясь вдоль выкладки книжного магазина и полистав сайты издательств, можно подумать, что он везде и только о нем и разговоров. Даже Кэрри Брэдшоу в продолжении «Секса в большом городе» пишет аутофикшн, после того как...

(Внимание, спойлер)
Аутофикшн, в отличие от сериалов, проспойлерить невозможно. Все уже случилось в самом начале и запустило повествование. И закончится оно только тогда, когда изменится отношения автора к случившемуся, зарастет рана.
В этой подборке мне хотелось показать, какие формы может принимать этот влиятельный жанр и что найти его можно не только в полке современной художественной прозы.
1. Саша Баттьяни «И при чем здесь я?»
Отдел истории

Швейцарский журналист благородных венгерских кровей тоскует, шагая по ровной дороге истории Швейцарии — страны нейтралитета и развитой экономики. Пока не натыкается на статью о своей двоюродной венгерской бабке, участвовавшей в расстреле ста восьмидесяти евреев в 1945 году. Чувство вины за совершенное не им немедленно включает в Саше Баттьяни идентичность наследника великой державы. Но двоюродная бабка, которая всегда относилась к категории неприятных родственников, не то что родная бабушка, которой, оказывается, тоже было за что себя винить. Середина ХХ века настолько наполнена событиями, что мысли о том, со сколькими людьми ты можешь быть связан виной, подобны мыслям о том, на скольких случайных фотографиях незнакомых тебе людей ты случайно остался.
Книгу Баттьяни можно читать как семейный роман, где грехи предков наконец дают повод для разговора с живыми родственниками: «Как там твоя собака?» «Хорошо. Расскажи лучше о своем расследовании». Можно как роман-путешествие по объединенному чувством вины миру: автор доезжает сначала до московского музея ГУЛАГа, потом до города Асбеста, где десять лет провел в советском плену его дед, зачитывает разоблачающие отрывки бабушкиного дневника в Буэнос-Айресе, перебирает в руках гравий у старого семейного поместья, на который когда-то мертвыми упали знакомые его семье евреи. Но в первую очередь это психологический роман. «И при чем здесь я?» — говорит человек, задумываясь о преступлениях предков. «И при чем здесь я?» — говорит человек, когда соседи-евреи просят спасти их детей от Аушвица.
2. Анни Эрно «Событие»
Отдел современной художественной прозы

«Весь день чувствовалась какая-то нервозность. Гога, Софи, и другая прислуга, и горничные сновали по коридорам со все новыми полотенцами, кипяченой водой, фруктами. Собаки скулили. Никто не говорил роды, все употребляли более возвышенное французское слово „l’événement“ — событие».
Это цитата из предыдущей книги нашей подборки. Для венгерских аристократов начала века «событие» — момент, делящий жизнь на до и после, как красная полоса на обложке книги, — это рождение ребенка. Для Анни Эрно, в октябре 1963 года обнаружившей свою нежелательную беременность, событие — это… А действительно, что? Сама беременность или ее незаконное прерывание (до 1974 года во Франции действовал запрет на аборты)? То, как на нее теперь смотрят старые знакомые? Или как она сама смотрит на себя? В какой момент у события появляется душа, требующая написать о себе через тридцать пять лет после произошедшего? Четыре месяца, восстановленные по дневникам, — детальный репортаж из прошлого. Эрно рисует мир, в котором она внезапно почувствовала себя разоблаченным попаданцем, — интеллектуалку и студентку филфака как будто нагоняет ее класс, и она оказывается всего лишь еще одной беременной девушкой из пролетариата.
Книга Эрно — хороший пример, чтобы обратить внимание на этику автобиографического рассказа. «Хотела бы я написать здесь ее фамилию и прекрасное символичное имя, данное ей родителями, беженцами из франкистской Испании. Но то, что подталкивает меня это сделать, — желание заявить о ценности реального существования Л. Б., — одновременно и останавливает меня. Я не имею права в одностороннем порядке использовать свою власть, чтобы выставить на всеобщее обозрение Л. Б.», — пишет Эрно об одной из женщин, помогавших ей. Вспомни она фамилию плохо обошедшегося с ней врача, она отомстила бы, упомянув ее в книге. Почти все люди в повествовании спрятаны за инициалами. Под своими именами появляется только пара приятелей, которые ничего не знали о беременности и проходят фоном лишь в одном эпизоде. Как и политики, как и авторы хитов начала 1960-х, под которые танцует героиня, — они не знали, им было все равно. Причастность к тому, что нельзя совершать, делает персонажей безымянными — неважно, помогали они героине или наоборот.
3. Сергей Мохов «Археология русской смерти»
Отдел социологии и антропологии
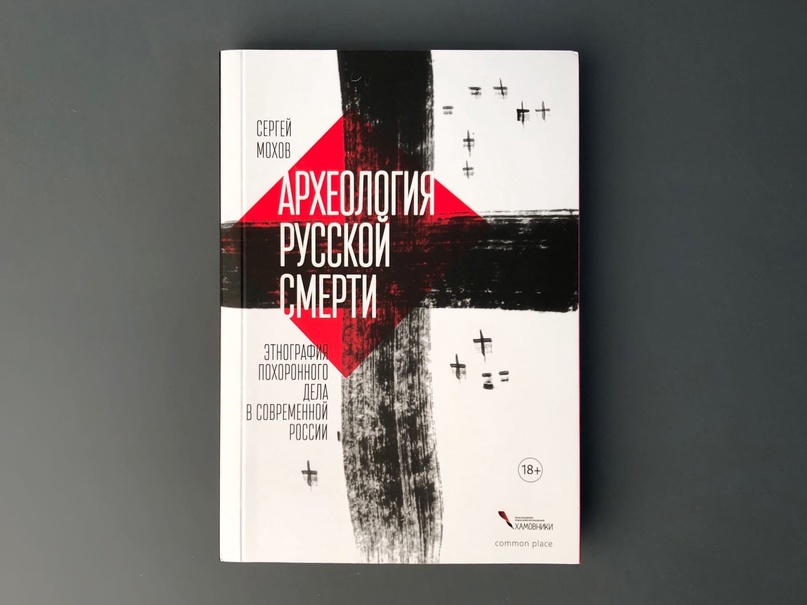
Первую часть книги о российской похоронной индустрии можно сравнить с рассказом о путешествии героя, почти сказкой: молодой ученый оказывается в волшебном поле русской смерти. У него есть старший товарищ-проводник (цитаты из речи более опытных работников никогда не подписываются, поэтому кажется, что это говорит один и тот же мудрый советник), на пути ему встречаются лишенные мирских имен люди (хозяин ритуального агентства Бычок), морги охраняют строгие женщины в белом. И несмотря на всю обаятельность описываемых персонажей, чтение это действительно жуткое, после которого начинаешь побаиваться смерти — из-за того, что не знаешь, где окажется твое несчастное хладное тело (книга богато иллюстрирована фотографиями из отечественных моргов).
Для нас же важна последняя глава с такими подглавками: «Мои мертвые мужчины: дед и отец», «Мои мертвые женщины», «Восприятие смерти после поля».
«Такое понимание антропологической работы позволяет не рассматривать антропологию только как форму рефлексивного письма или качественной теоретизированной журналистики, но и как особую форму психоаналитической работы, в ходе которой осуществляется попытка осмыслить собственную мотивацию, действия и ограничения».
Проводя ревизию, как он сам это называет, Сергей Мохов описывает, как его жизнь влияла на его отношение к смерти. И за рассказами об отце-бандите, «Криминальной России» по телевизору, юношеских походах по кладбищам и увлечением Летовым вырисовывается портрет конкретного человека. В другой книге Мохова «История смерти. Как мы боремся и принимаем» рассказ о том, как он узнал о смерти отца, стоит в самом начале и запускает тему. Незнание десятилетнего мальчика, как правильно реагировать на смерть, будто замирает внутри и вновь активизируется, когда того требует тема. Или, скорее, само к ней подталкивает.
— В чем актуальность исследования? — спрашивают на защите научных работ.
— Для меня или вообще? — имеет право уточнить современный исследователь.
4. Элисабет Осбринк «1947. Год, в который все началось»
Отдел истории

В 1947 году начинаются: ООН, государство Израиль, «братья-мусульмане», первые компьютеры, мода от Диор — столпы и приметы нового послевоенного мира, которые продолжают влиять и на нас. Все знают, когда заканчивается война, но когда заканчивается послевоенное время?
На первый взгляд книга Элисабет Осбринк может показаться очередным текстом-мозаикой о конкретном годе в истории. Эдакие «Намедни», эдакий Флориан Иллиес. Да, можно прочесть ее и так, если упустить из виду стоящую ровно посередине главу «Дни смерти», в которой раскрывается тайна персонажа, который никак не поддается гуглу. Джордж Оруэлл, Билли Холидей, Симона де Бовуар и Пауль Целан — нет сомнения, что по ним стоит прослушивать пульс истории. Но есть персонаж, который непосредственно связан с Осбринк, и это и позволяет говорить о книге как об аутофикционной.
5. Михаил Зощенко «Перед восходом солнца»
Русская классическая проза
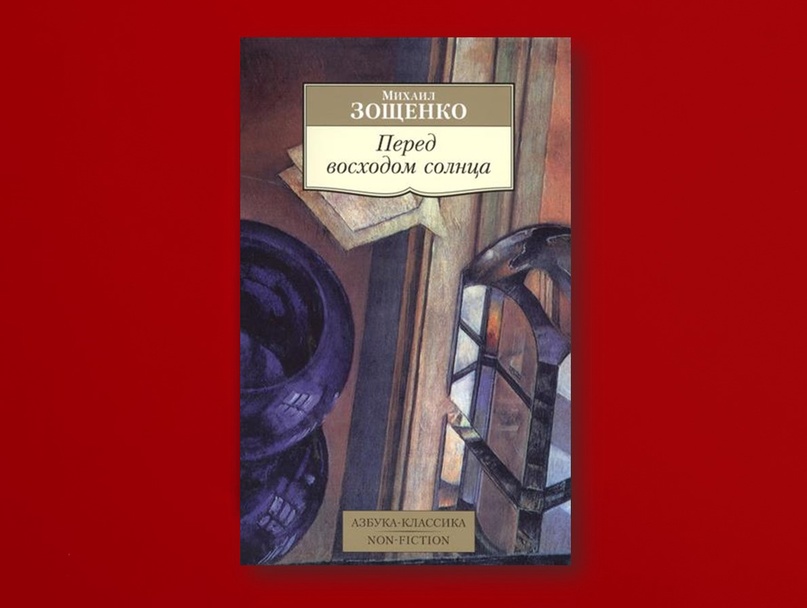
Если вам кажется, что настоящая серьезная литература — это когда серьезно, т.е. не смешно, то вот доказательство, что Михаил Зощенко был настоящим серьезным писателем:
«Все тускнело в моих руках. Хандра преследовала меня на каждом шагу. Я был несчастен, не зная почему».
Парадоксально: эта книга более других в этой подборке похожа на психологический селф-хелп. Решив, что черная меланхолия — это не признак гениальности, а лишь безрадостный и короткий путь к скорой смерти, писатель решает откопать в воспоминаниях, что же так пошатнуло его нервную систему, а проще сказать — травмировало. Начиная с недавних воспоминаний, он двигается все дальше, доходя до младенческих вспышек сознания. Эти вспышки или целые сюжеты и есть главная литературная ценность «Перед восходом солнца», которую можно воспринимать просто как цикл блестящих рассказов.Да, читать вторую часть повести, где Зощенко все же докапывается до причины своих бед и находит путь к их решению, порой неловко. Вдохновленный открытиями Павлова о рефлексах автор, уверенно трактуя свои болезни и болезни таких великих меланхоликов, как Гоголь и Эдгар По, как будто ведет блог по психосоматике. Нам могут показаться наивными его размышления, но это лишь потому, что мы привыкли к аутофикшену, где герой эксплуатирует весь запас знаний, который наука накопила за долгий ХХ век. У Зощенко же были только Павлов и Фрейд.
6. Стеффен Квернеланн «Мертв по собственному желанию»
Комиксы
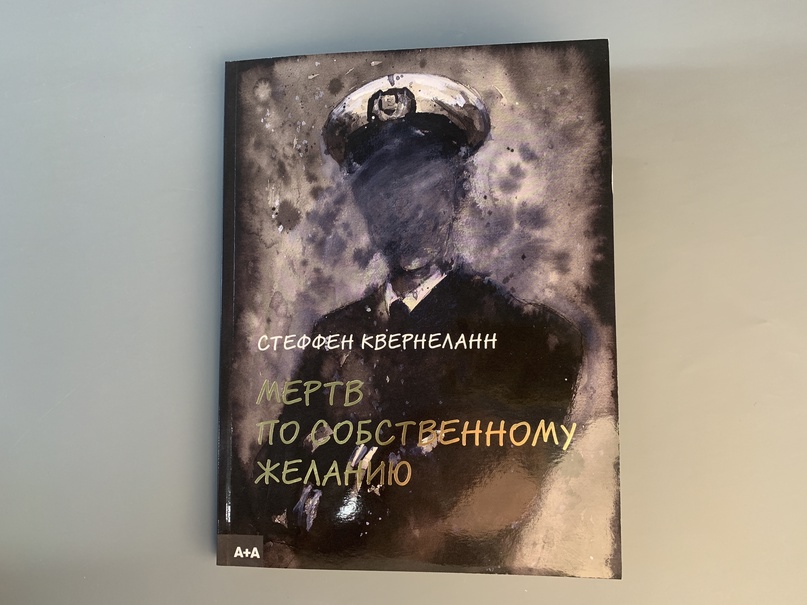
Комикс-раздумье и комикс-вспоминание об отце, покончившем с собой сорок лет назад. Стеффен Квернеланн рисует машину, в которой отец задохнулся газом (по собственному желанию), а потом ему напоминают, что она была другого цвета. Узнает, что при таком способе самоубийства у человека розовеет кожа, но это он нарисовать уже не может. Воображение буквально смазывается в пятно краски. Вытаскивая из памяти различные воспоминания, он рисует их, а значит, мы видим, что да, кончик носа у отца действительно был похож на землянику. Монтирует рассказ о психологическом диагнозе отца с фото, где тот читает книгу, — и вот нам кажется, что он читает книгу о борьбе с депрессией. И да, она (депрессия) наверняка была у него всегда — посмотрите на его детские фото.
Это комикс о сплаве воображаемого, вспоминаемого и реально зафиксированного — память Стеффена Квернеланна тасует семейные фото, отрывки из его старых работ, полузабытые истории и воображаемые допущения. Аутофикшн — это вообще чаще не про само событие, а про то, как автор его запомнил. Действительно ли отец так часто улыбался, как на той старой фотографии из военно-морского прошлого или это так кажется? Превращенная в рисунок эта улыбка скорее похожа на оскал, а другого фото отца в благодушном настроении вы в тексте не найдете.
Бонус: Читаем книгу — смотрим фильм
7. Шанталь Акерман «Моя мать смеется» и фильм No Home Movie
Отдел кино

Режиссерка Шанталь Акерман описывает болезнь своей матери. Ухудшения, улучшения, побеги от больной в работу, воспоминания о детстве — повествование, проиллюстрированное семейными фото и кадрами из фильмов Акерман, путает, уводит в дебри ассоциаций, где «она» может значить: она-мать, она-Шанталь, она-возлюбленная. Это болезненный текст наблюдающего за болезнью.
«Ребенок родился сразу стариком, ребенок так никогда и не стал взрослым. Он развивался в мире взрослых как ребенок-старик, и у него плохо получалось. Ребенок-старик говорил себе, что, если его мать умрет, ему будет некуда вернуться».
Можно сказать, что это аутофикшн, который не удался — не выполнил свою терапевтическую функцию, не привел к принятию, и ребенок-старик так и не вырос. (Что делает книгу только примечательней — кому интересны вечные хэппи-энды?) Шанталь Акерман покончит с собой через полгода после смерти матери в 2015 году.
Книга «Моя мать смеется» заканчивается на моменте, когда матери становится лучше — волосы отрасли, силы вернулись. Примерно в это время начинается действие документального фильма Шанталь Акерман No Home Movie (НЕдомашнее кино, 2015).

Мама всегда молодая; для матери ее дитя — всегда ребенок; нет ничего страшнее для ребенка-старика, чем увидеть, что мать постарела. Ручная камера фиксирует ужин двух женщин — старой и пожилой. Они обсуждают прошлое, седину, выцветание глаз. Власть казаться правым всегда за автором — сколь бы ни были ужасны и постыдны разоблачающие мысли, написанные на бумаге они всегда выставят писателя в лучшем свете. Камера не бумага, у нее свои интересы. Ее волнует только собственная приметчивость, и, если автор, выставив кадр, заходит в него, она начинает примечать и за ним.
Открытая рана отношений с матерью из книги в фильме сглажена документальной камерой. То, что казалось трагедией, выглядит как семейная рутина. Сломанное плечо, которое в тексте книги кажется чудовищным увечьем, — лишь доставляющая некоторое неудобство пожилой мадам травма. Письмо — то, что ты можешь вспомнить и описать. Фильм — то, что ты успел снять. Если хочешь снять фильм о матери, нельзя спрятаться от нее в комнату.
— Как я выгляжу?Текст — Мария Левунова
— Очень хорошо.
— Как я выгляжу, мам?
— Для меня ты самая красивая.
(из разговора по скайпу, который Акерман снимала на камеру, загораживающую почти все ее лицо)